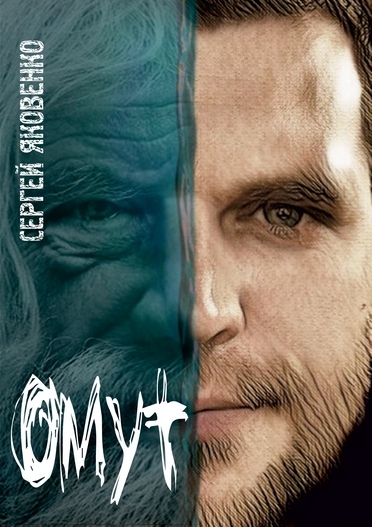Рассчитавшись с таксистом, поднялся на крыльцо. У входа висела табличка, на которой вместо ожидаемого названия знакомого мне заведения было написано: «Министерство социальной политики, Абилитационный хоспис-центр паллиативной медицины, г. Харьков».
Что значит «паллиативная медицина»? Что значит «хоспис»? Я никогда не слыхал о подобном заведении и даже понятия не имел, чем они занимаются, не говоря уже о том, что здесь делает моя мама. Но судя по слову «хоспис», фигурирующему в названии, ничего хорошего ждать не приходилось. В моём, нормальном, мире хосписы оказывали поддержку смертельно больным пациентам. Их основной задачей было облегчение страданий от неизлечимых болезней, ведущих к неизбежному концу.
Я вошёл. В холле никого не было, за исключением пожилого охранника в очках в роговой оправе, читающего газету в небольшой кабинке, застеклённой со всех сторон. Проход в коридоры и на лестничную клетку перегорожен хромированным турникетом, сразу за которым имелась металлическая рамка, напоминающая металлодетектор. Такими оборудуют терминалы в аэропортах. Мои шаги эхом отражались от бетонных стен, многократно усиливаясь, но мужчина за стеклом не подал вида, что вообще меня замечает.
Подойдя поближе, я поздоровался. Охранник, не меняя позы, поднял глаза и посмотрел поверх толстых линз. Назвать этот взгляд приветливым было сложно. Я кивнул.
– Слушаю вас, – рявкнул мужчина.
Его голос, доносящийся из прозрачной коробки, звучал глухо.
– Скажите, как мне увидеть Семёнову Валентину Андреевну?
Охранник ещё какое-то время испытывающе пялился на меня, затем нехотя отложил в сторону газету и взял со стола толстый журнал в потёртой картонной обложке. Снова зыркнул из-под очков, послюнявил палец и принялся листать, громко переворачивая пожелтевшие страницы, исписанные ровным, но неразборчивым почерком. Каждый лист изучался медленно, будто нарочно. Он проводил сверху вниз пальцем, снова его слюнявил и принимался за следующую страницу. Я не выдержал.
– Скажите, а она здесь работает или…
Охранник оторвался от своего монотонного занятия и в очередной раз уставился на меня немигающим взглядом из-под очков.
– Кто?
– Семёнова Валентина Андреевна, – раздражённо повторил я очевидное.
– Нет, – сказал тот и продолжил листать.
– А что тогда?
На этот раз мужик снял очки и презрительно искривил рот.
– Что-то я не понял. А ты кто вообще?
От такого неприкрытого хамства я оторопел. Даже вначале хотел ответить ему в подобном тоне, но решил, что нарываться на скандал просто бессмысленно и, проглотив дерзость, сказал:
– Я её сын, и мне срочно нужно её увидеть. Она ваша пациентка?
Мужик ещё ненадолго задержал на мне взгляд, вернул очки на нос и буркнул:
– Клиентка.
В чём разница между этими двумя понятиями выяснять не хотелось. Да и надобности особой не было. Вполне хватало того, что мама находится здесь не в качестве медперсонала. Хотя я и без того догадывался, что человек, всю жизнь проработавший преподавателем русского языка в средней школе, вряд ли будет работать в подобном заведении. Тем более на старости лет, да ещё и с больным сердцем.
– Год рождения, – потребовал охранник.
Я его вполне расслышал и понял правильно, но зачем-то задал глупый вопрос:
– Мой или её?
– Её!
– Тридцать четвёртый.
– Коридор налево, по лестнице на третий этаж. Лифт не работает. Когда поднимешься, позвонишь в звонок. При выходе предъявишь пропуск. Его выписывает дежурный надзиратель. Проносить на территорию хосписа продукты, колющие, режущие предметы и лекарства – запрещено. Ключи можешь оставить мне, при выходе верну.
Я передал ему связку ключей от квартиры.
– Паспорт, – потребовал мужик.
– Господи! Да паспорт-то вам зачем?! Я что, на режимный объект прохожу? С каких пор в больнице паспорта требовать начали?! – не выдержал я, начав повышать голос.
– Это не больница. Без удостоверения личности вход на территорию хосписа запрещён.
– Бред какой-то! – возмутился я и принялся рыться в карманах, заведомо зная, что никакого паспорта там нет. Вместо документа извлёк пару кредитных карт, на одной из которых, с тыльной стороны, имелось моё фото, а на лицевой – имя с фамилией. Я протянул карточку охраннику, затем, немного поразмыслив, вытащил из кармана сотенную купюру и приложил к импровизированному «документу». Тот недовольно хмыкнул, ещё раз посмотрел на меня, но от предложения отказываться не стал. Взял деньги, даже не взглянув на карту, нажал на какую-то кнопку, и турникет щёлкнул замком.
– Посещение строго до семнадцати, – на этот раз в тоне его голоса я не заметил хамских нот. Скорее, теперь он просто констатировал факт, не более того. Интересно, сообщил бы он мне столь «ценную» информацию, если бы у меня с собой оказался паспорт и мне не пришлось бы давать ему денег? Почему-то кажется, что нет. Но это всего лишь догадка, не более того.
Я поднялся на третий этаж. Проход в отделение перегораживала обитая жестью массивная дверь с крупным смотровым глазком. Подойдя вплотную, попытался заглянуть в него, но вовремя успел заметить идущую с противоположной стороны женщину в белом халате. Едва я успел сделать шаг назад, как щёлкнул дверной замок и дверь открылась.
Она явно не ожидала здесь кого-то встретить и даже слегка испугалась. Я приветливо улыбнулся и поздоровался, отчего дама в халате нахмурилась.
– Вы что-то хотели?
– Я ищу свою мать. Семёнову. На охране сказали…
– Да, да… Я вас помню. Девятая камера. Её два месяца назад туда перевели, – сообщила женщина и жестом пригласила пройти.
Я опешил.
– Какая камера?
– Девятая, – будничным тоном повторила женщина.
– Нет… Я имею в виду, что значит камера?
– Это должно что-то значить? – удивилась та.
– Постойте… Она что, заперта?
– А вы хотели бы, чтобы она была не заперта? – Интонация, с которой был задан вопрос, по умолчанию делала его риторическим.
– Зачем?
По всему было ясно: в её глазах я выглядел идиотом. Она смерила меня удивлённым взглядом и сказала:
– Послушайте, если у вас есть претензии к условиям содержания, можете изложить их в письменном виде. Обсуждать ваше недовольство в подобном тоне я не намерена. Мне и без вас с этой Семёновой проблем хватает. Между прочим, ни у одного клиента, кроме неё, нет мобильного телефона. И я вам об этом уже не раз говорила. Это грубое нарушение правил содержания смертников.
– Каких смертников? – выдохнул я и почувствовал, как кровь отходит от лица.
– Николай… Забыла ваше отчество… У меня нет времени на пустые беседы. Либо проходите в камеру, либо прошу на выход. Мне некогда, поймите. У меня планёрка. – Она заметила мою реакцию и замерла: – Николай? Вы в порядке? Вы понимаете, что я говорю? Эй!
Нет. Я не понимал. Впрочем, это уже превратилось в привычку. Здесь много чего было непонятно. А если поразмыслить, то можно даже сказать – непостижимо и страшно. Сколько ни старался, я никак не мог понять, ради чего эти люди живут? Что ими движет? Чему они радуются и радуются ли вообще? Для чего рожают детей? Мне было непонятно, как может сын допустить, чтобы его мать оказалась запертой в какой-то жуткой камере смертников? И после этого мать звонит этому сыну и с болью в голосе интересуется, не заболел ли он! Я не понимал!
Женщина в белом халате решительным шагом двинулась вдоль коридора, по обеим сторонам которого через равные промежутки серели неокрашенным металлом стальные двери с квадратными окошками, как в тюрьме. Я проследовал за ней и через десяток метров остановился у двери, обозначенной цифрой «9».
Надзирательница вытащила из кармана халата массивную связку пронумерованных ключей и, отыскав нужный, отперла замок камеры. Толкнула дверь, и та с гулким скрежетом распахнулась.
Мама сидела на деревянном табурете у зарешечённого окна и смотрела на меня. Ладони были сложены «лодочкой» и покоились на коленях. Она была одета в серую хлопчатобумажную пижаму и обута в такие же серые тапки-шлёпанцы. Седые волосы стянуты на затылке резинкой и закручены в аккуратную гульку.
– Здравствуй, Коленька, – прошептала она и поднесла ладонь к левой груди. – А я всё звонка твоего жду.