Опять милуются. Ну сколько можно! Видимо, и правда у нее головные боли я вызывал и трехнедельные «эти дни». А этот новый её, ну ведь такой же, я даже помускулистее был — покрути баранку буханки по нашим дорогам с утра до ночи. Там тебе и пресс, и дельта и бицепс и трицепс. Ну, член, ладно, насколько видно через щель в ставнях, действительно длиннее. Но ведь не так это важно. Зато у него пальцы, как сардельки короткие и волосатые — будто на руках по пять медведок этих мерзких. Фу. Как он с ними вообще на аккордеоне играть умудряется — видимо, членом помогает. А так-то хороший мужик, это я уж так… Ревную.
А он ыш старается, пыхтит. Майку б хоть снял — уже поясница мокрая. Пойдет домой в Решетниково — простудится ж — с Рябинки то по вечере тянет будь здоров. Уж мне то на крыше не знать. Поясница то чай не казённая, как заломит — хорошо труба печная теплая. Сижу вот, обнявшись с ней, как с родной. А и есть родная — сам же клал, каждый кирпичик наизусть помню, которые из колхозного коровника заброшенного по ночам на горбу таскал. Эх… Было ж время, и любовь была.
«- Вась, молочко будешь парное? И хлеб испекся. Поснедай.
— Буду, Любушка, еще два листа шифера положу, а то дождь собирается.»
Вот они эти два листа крайних. Один со сколом — в темноте пока пёр об землю долбанул. А этот у Мишки выпросил, когда он свинарник перекрывал — он уже тогда почти черный был, а сейчас-то совсем…
Нету уж ни Мишки, ни коровника, ни свинарника таво, ни молодости нашей, ни яблоньки нашей в полисаде, а любовь есть. Хоть и развели нас пути дороги, Любаше вот — дом, а мне — крыша с трубой. Никак отпустить их не могу. Вроде пора бы уже уйти, отцепится от этой теплой трубы, да своей дорогой идти. А не могу, держит крепко.
***
Вроде всё. Прощаются. Молодец, Любка, догадалась — телогрейку мою старую дала накинуть. И пирога сунула. Капустного, моего любимого. Сейчас бы спуститься с этой крыши проклятущей, да как вгрызца в бочок хрустящий… Аж потянулся на запах, забывшись.
Старый кусок шифера подо мной предательски затрещал, заскрипел, запричитал по-своему жалобно — слишком близко на краю я оказался. Метнулся обратно к трубе, прижавшись и увидел лицо Сереги, тревожно глядящего.
— Люб, давно крышу то чинили? Вон, скоро оторвется кусок, прям на голову, ыш ходуном на ветру ходит.
— Давно, Сереж.
— Давай завтра поправлю.
— Хорошо бы.
— Жди завтра!
— Жду, Сереж.
***
Ушел. Свесился я тихонько, да в окошко заглянул. Опять фотографию мою подняла со столика, что лицом вниз клала, ленточку поправила, слезами облила, да к груди прижала. Никак не отпустишь ты меня, Любушка.
Вздохнул тяжко, отползая к трубе, а вздох что вой получился. Шарик вылез из конуры, махнул хвостом, да тоже завыл. Ничего, псина. Сергей хороший, чай отпустит меня она скоро, и не нужно будет по ночам плакать — ни тебе, ни ей.









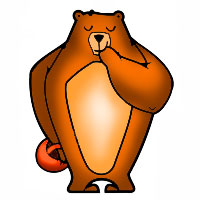



Ибитска сила… хорошо