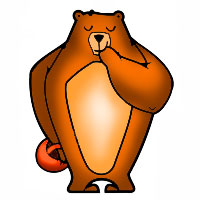Вместо предисловия
Рассказ является попыткой «вспомнить» об остарбайтерах. Явлении, про которое даже мало кто ныне знает и которое совершенно незаслуженно забыто.
Изначально, все диалоги были прописаны на родном для говорящего языке (немецком, украинском, русском), но позже по отзывам читателей, пришлось от этой идеи отказаться — лазить в примечания за переводом было слишком сложно. Тем не менее, я прошу попробовать представить себя на месте Ганны, которая слышала этот разговор именно на немецком и лишь догадывалась о смысле отдельных слов. Но она всё-равно мучительно вслушивалась в чужую речь, пыталась понять тех, от кого зависела жизнь её и детей, сидя в холодной продуваемой весенним ветром комнате, выходящей окнами на Фридрих-штрассе, в самом центре весеннего Берлина в 45ом.
Ганна попыталась вытереть кровь из рассеченной брови, заливавшую глаза, но только размазала ее по лицу, мешая с слезами и пылью. Канонада продолжалась уже несколько часов. Здание, где они укрылись, отзывалось на каждый, особо сильный раскат взрыва, падающими с потолка кусками штукатурки и звоном чудом уцелевших стекол. Было пронзительно, по-весеннему, промозгло. Николас и Эльза, которых она спрятала под своим куцым пальтишком, доверительно прижимались к ней двумя теплыми комочками.
С третьего этажа открывался прекрасный вид на Фридрих-штрассе. Они жили совсем недалеко, в огромной квартире, занимавшей пол этажа, а почти под самыми окнами несла свои воды Шпрее.
Она помнила, какое впечатление на нее произвел Берлин. «Столица Мира», как его называл Фон Бюлов, с гордостью взирая на окрестности с балкона, где имел привычку пить кофе и курить, разбирая корреспонденцию.
— Wir haben eine schöne Stadt, nicht wahr, mein Mädchen? – обращался он именно к ней, игнорируя стоящую рядом старшую служанку.
Ганна, ни слова ни понимавшая по-немецки, на всякий случай, кивала.
Он был хорошим хозяином, этот совсем еще не старый мужчина с волевым лицом аристократа и военной выправкой. «Дядя Генрих», как он просил себя называть, никогда ее не обижал и никогда не позволял себе ничего лишнего, хотя вторую служанку, Оксану, которая была старше Ганны на два года, своим мужским вниманием не обделял. Иногда, давал ей мелкие деньги, предупреждая, чтобы тратила их не сама, а просила кого-то из местных купить, что ей было нужно. В обязанности ее входила любая помощь фрау Анне, жене дяди Генриха, включая заботу о чудесных двойняшках: Николасе и Эльзе, которым к моменту ее появления в их семье в сорок третьем году, исполнился годик.
Оказалась она в этом доме случайно. Ее дядя Генрих выиграл в карты у своего друга, начальника железнодорожной станции, который выкупил красивую шестнадцатилетнюю украинку прямо из товарного вагона с остарбайтерами у конвоя за пару пачек сигарет.
А ведь сперва она сама, добровольно, хотела ехать в Германию. По всему оккупированному Киеву висели объявления о наборе девушек на работу «помощницами по хозяйству». Обещали достойные условия и оплату. Мать ее тогда смогла отговорить. А позже, никого уже и не спрашивали…
Сейчас, дядя Генрих и фрау Анна, а также все, кого она знала в этой стране, лежали под развалинами дома, в который угодила авиабомба. Если б она не пошла гулять с близнецами…
Дети и не подозревали, что стали сиротами – они мирно спали на груди у Ганны в самом сердце Войны.
***
— А я тебе говорю – Германия ни перед кем не встанет на колени! В Великую войну не встала и сейчас не встанет. Помнишь, пели: «На земле всего превыше, лишь Германия одна».
— Густав, мы Великую войну проиграли.
— Нет, Карл, – мужчина в сером, явно великоватом для него, пальто и такой же кепке, сползающей на уши, с облегчением поставил у окна две тяжелые трубы, — мы не проиграли! Мы согласились на перемирие! Если бы не подлый удар в спину от социалистов!
Второй мужчина, крупный, в натянутом на пивном животе коротком клетчатом пиджаке и повязкой фольксштурма на предплечье, прислонил к стене еще две трубы и снял с плеча две старых винтовки, с ободранными до дерева прикладами.
— Мы еще много на что «согласились», — проворчал он, — и не нужно сюда социалистов примешивать.
— Опять ты своих защищаешь!
— Они не мои с тридцать третьего года!
— И, даже не смотря на «твоих», — Густав подвинул к окну стул, принесенный из комнаты, — посмотри, чего мы достигли. Лучшая армия в мире! Лучший город Земли! Фюрер точно знает, что делать!
Карл только устало вздохнул и плюхнулся на второй стул, выдавив из него жалобный скрип.
***
Протяжный стон проник прямо в мозг. Она вскинулась, еще не понимая, где находится. Секунда непонимания, осознание и холодая волна ужаса, от смотрящего прямо в лицо черного дула винтовки.
— Ты кто? – у тощего мужчины с узким обветренным пунцовым лицом и красными глазами под опухшими веками, сильно дрожали руки, отчего винтовка ходила ходуном.
К нему подошел толстый крупный мужчина и рукой направил винтовку в пол.
— Да успокойся ты. Не видишь, что ли – горничная из остербайтеров, — и кивнул на ее нашивку.
Он перевел внимательный взгляд на девушку и спросил:
— Как зовут?
— Меня зовут Ганна, — все еще трясясь от страха, с трудом вспомнила она зазубренную фразу.
— Твои? — кивнул он все еще спящих детей.
Она догадалась, что он спросил. В самом деле, чьи они? Она успела привязаться к этим белокурым голубоглазым ангелочкам. Их родители погибли – кому они теперь, кроме нее нужны?
Она быстро утвердительно закивала головой.
— Покажи документы, — толстяк требовательно протянул руку.
Ганна вытащила свою синюю книжку с имперским орлом на обложке и отдала толстяку.
— Так так, она с Украины. Прибыла в сорок втором. Служила у фон Бюлова на Цигель-штрассе, — прочитал он худому, который вернулся к окну.
— Русская что ли?
Она быстро отрицательно покачала головой, услышав упоминание русских, так как знала, что русских тут не любили.
— Нет, Густав, это на западе России страна такая есть.
— Ты говоришь по-немецки? – обратился к ней толстяк. Ганна вновь отрицательно покачала головой.
— Столько лет в Германии, а не удосужилась даже наш великий язык выучить! Еще и ублюдков наплодила. Примитивная смесь рас и народов с каплей истинной крови, лишь внешне похожие на людей!
Он встал со стула и все больше распалялся. Его бледное небритое лицо с впалыми щеками пошло пятнами, а глаза, направленные на неё, налились гневом. Ганне показалось, что он сейчас бросится, будто сорвавшаяся с поводка собака.
— Нет, нужно стереть даже след их существования! Весь этот сброд: поляков, чехов, украинцев, цыган, русских!
— Ты находка для пропаганды, Густав, прямо по брошюре говоришь — будто учил.
— Может и учил, — пробурчал недовольно худой, успокаиваясь и садясь на стул, — умные люди писали. И они понимали, что все эти унтерменши – как животные. Даже хуже. От животных хоть польза есть. А эти только разрушают и гадят. Назначение нашей арийской расы – отчистить мир от этого биологического мусора.
— Цыгане больше арийцы, чем мы с тобой вместе взятые, а на нашей стороне, против коммунистов воюют и поляки, и чехи, и украинцы, – толстяк, тем временем, нашел, что искал, и подсел к ней, — и русские. Ганна почему-то совсем не боялась этого крупного, сильного человека. Что-то было в нем такое теплое и домашнее. Даже этот страшный каркающий язык у него звучал мягко и мелодично. А еще, от него пахло хлебом и ванилью.
Дети уже проснулись и терли ручонками глаза, опасливо поглядывая на незнакомых дяденек. Толстяк достал армейский штык, заставив девушку инстинктивно закрыть руками детей. Тот грустно скривился, тяжело вздохнул, сноровисто вскрыл штыком банку консервированных сосисок, достал из чистой тряпицы вилку и положил на банку.
— Еда. Ты и дети — ням ням, — он продемонстрировал процесс поедания сосисок, заставив детей улыбнутся. К банке добавилась открытую фляжку с водой, а потом, когда голодные дети уже жадно ели угощение, он, заметно смущаясь, положил четвертинку шоколадки, в потертой по краям обертке, найденной, после тщательных поисков, во внутреннем кармане пальто.
— Не корми русского медведя! – аж взвизгнул худой, лицо его вновь пошло крупными бурыми пятнами, а пальцы затряслись мелкой дрожью.
— Ну какой же это медведь – три маленьких медвежонка, — толстяк с нежностью наблюдал, как все трое жадно набросились на сосиски, — Марте вот как ей бы было…
Он протянул руку и аккуратно погладил застывшую статуей Ганну своей теплой рукой по щеке.
***
Густав замолчал. Все что он хотел сказать дальше, показалось ему несвоевременным. В комнате повисла тишина, и на фоне тишины отчетливо стал слышен звук лязганья танковых гусениц по брусчатке.
— Карл! Танки!
Оба затаились у окна, опасливо выглядывая на улицу.
— Наши?
В начале улицы показался силуэт боевой машины с длинной толстой пушкой в болотно-зеленой раскраске с белым крестом, по которому шел белый медведь.
— Иваны.
Танк развернулся и двинулся в сторону их дома.
— Скоро будут снизу проходить, – Густав азартно готовил панцерфауст к использованию, сверяясь с инструкцией на гранате, — и вот тогда — прямо в моторное.
— А где пехота? Они же не бывают без пехоты, – успел удивленно проговорить Карл, когда в комнату влетела ребристая шипящая граната.
Секунды растянулись в вечность. Приближающийся танк, граната, испуганные, не понимающие глаза девочки, прижимающей к себе двух детей.
Карл, будто сбросив все свои года и лишний вес, невообразимым прыжком кинулся вперед и упал на гранату всем телом, пряча ее в своем животе.
Глухо хлопнул взрыв. Карла будто сильно толкнули снизу. Он дернулся и безжизненной кучей остался лежать на полу. Из-под тела стало растекаться целое море стремительно чернеющей крови.
— Карл, — потерянным голосом прошептал Густав, даже не пытаясь поднять оружие на вбежавшего бойца с автоматом. Короткий треск и на его груди расцвели красные гвоздики. Он, страшно хрипя и хватаясь руками за грудь, сполз по стене и затих.
Ганна ничего не слышала, в ушах звенело, а в носу стало мокро. Она лишь крепче прижимала к себе беззвучно надрывавшихся в плаче детей и смотрела на высокого молодого солдата, который подбежал к сучащему ногами Густаву и отпнул подальше выпавшую у того из рук винтовку.
Следом за парнем стремительно вошел еще один солдат. Он был постарше, но был одет в такую же каску и кирасу.
— Кунцевич, чего там?
— Двое, товарищ гвардии сержант. Фолькштурмы. Один, вроде, еще живой. Может добьем?
— Отставить. В санбат его — мы ж не звери. Сбегай за санитарами и палки забери, — кивнул он на панцерфаусты у окна.
Молодой убежал, а второй по-хозяйски осмотрелся и заметил тело Карла.
— А этот чего тут развалился?
Он, упершись сапогом, с трудом перевернул грузное тело на спину, открывая взору кровавое месиво, в которое превратился живот. Уважительно присвистнул:
— Герой.
Он поднял глаза и заметил вжавшихся в угол девушку с детьми.
— И правда, герой, — растерянно прошептал солдат, снимая каску и глядя то на них, то на тело. Он сглотнул внезапно пересохшим горлом, снова одел каску, схватился за автомат, потом за ремень. Наконец, собрался, одернул гимнастерку и старательно произнес, подойдя к ним и заслоняя собой труп:
— Frau, geht es Ihnen gut?
— Я по-русски понимаю, я — русская.
Поймав его взгляд, направленный на хныкающих детей, она твердо сказала:
— Мои.
Сержант хотел еще что-то сказать, но, похоже, так и не найдя нужных слов, выдохнул и просто спросил:
— Домой хочешь?
— Хочу!
— Кунцевич, — крикнул он, высунувшись в окно.
— Я, — солдат вбежал по лестнице, покосился на труп и подбежал к командиру.
— Помоги им добраться домой.
Солдат непонимающе огляделся, потом заметил девушку и ошарашенно почесал затылок.
— Ну дела…
Сержант еще раз посмотрел на труп, дернул подбородком, коснулся пальцами каски, и решительно вышел, придерживая автомат рукой.
Молодой рядовой, с белыми волосами и щедро рассыпанными по лицу веснушками, присел на корточках рядом и тепло улыбнулся.
— Тебя как звать то, красавица?
— Ганной.
— А я Степан. Будем знакомы. Сейчас, Анют, железки отнесу и вернусь. Ты пока тихонько посиди, — он сгреб панцерфаусты в охапку и, пыхтя, потащил их вниз по лестнице.
Ганна встала и аккуратно, стараясь не наступить в кровь, подошла к Карлу. Его широко раскрытые глаза смотрели в потолок.
— Dankeschön, — прошептала Ганна, провела рукой по векам, смыкая их и поцеловала его в холодный лоб.
— Коля, Лиза, пойдем, — по-русски позвала она мальчика, беря девочку на руки и помахав призывно рукой.
***
На улице было людно. Рокотали дизелями танки, выплевывая сизые вонючие клубы дыма. Давешний рядовой подбежал к ним.
— Чего не дождалась?
— Домой хочу, — просто сказала она.
Степан улыбнулся.
— А где дом то?
— В Киеве.
— А. Ну это уже можно, — вновь улыбнулся солдат. Он вообще, похоже, любил улыбаться.
— Гогнадзе, ты же ща в госпиталь?
— Да. Сейчас вашего подстреленного погрузим, и еду.
— Подкинешь моих? – кивнул на девушку с жавшимися к ней детьми.
— Конечно, дорогой, — грузин заухмылялся, — А что, правда твои?
— Нет, я это, ну просто, – Кунцевич быстро глянул на рассматривающую его Ганну и покраснел.
— Понятно.
Из дома вынесли на носилках Густава и погрузили в кузов.
— Сюда садись, помогать будешь, — похлопал грузин по дивану рядом с собой. Мальчик полез в кабину и опасливо слушал пояснения словоохотливого водителя.
Ганна залезла следом, не выпуская девочку из рук. У открытого окна стоял Степан, снявший каску и грустными глазами смотрящий на девушку.
— Ты это, пиши, — сунул он девушке листок с адресом, спешно накарябанном химическим карандашом на пачке от сигарет.
— Напишу, — Ганна взяла листок, прижала к груди и тепло улыбнулась.
Степан еще некоторое время бежал за машиной, но потом отстал.
***
Николас с детским восторгом смотрел по сторонам. Танки, машины, бронетранспортеры, люди и реющие над всем этим кумачовые флаги. Страх прошел, осталось только чистое детское любопытство. Водитель даже разрешил подержать ему руль.
— Твои?
— Мои.
— Как зовут?
— Николай и Елизавета.
— Ну, Коль, держи на память, из самого логова Зверя, — водитель нацепил на белокурую голову малыша свою пилотку с яркой красной звездочкой.